Шли недели. Мы не видели никаких признаков корабля; не
встречалось и плававших в воде предметов, которые говорили бы о том, что
на свете существуют другие люди. Весь океан принадлежал нам; горизонт
был открыт перед нами со всех сторон, и от самого небесного свода веяло
подлинным покоем и свободой.
Воздух, казалось, звенел от пропитавшей его свежей
соли, и вся незапятнанная синева, окружавшая нас, обмывала и очищала и
тело и душу. Все сложные проблемы цивилизованных людей представлялись
нам на плоту искусственными и призрачными, простыми измышлениями
извращенного человеческого ума. Реальностью были только стихии. А
стихии, по-видимому, не обращали внимания на маленький плот. Или,
пожалуй, они принимали его за нечто естественное, что не нарушало
гармонии океана и приспосабливалось к течению и волнам, как птица или
рыба. Теперь стихии были не страшным врагом, с пеной набрасывавшимся на
нас, а надежным другом, который твердо и уверенно помогал нам двигаться
вперед. Ветер и волны толкали и подгоняли, а океанское течение под нами
несло нас вперед к нашей цели.

плот
Если бы в один из обычных дней, проведенных нами в
океане, нам повстречался какой-нибудь корабль, с его борта было бы
видно, что мы спокойно покачиваемся вверх и вниз на длинной медленно
катящейся волне, увенчанной мелкими белыми гребнями, а пассат наполняет
наш оранжевый парус и выгибает его в сторону Полинезии.
Находящиеся на борту увидели бы на корме плота
загорелого бородатого голого человека, который тянет за перепутанные
веревки, отчаянно сражаясь с длинным рулевым веслом, или — если погода
хорошая — просто сидит на ящике, подремывая на горячем солнце, слегка
придерживая пальцами ног рулевое весло.
Если Бенгта не было у руля, то его можно было
обнаружить лежащим на животе в дверях каюты с одной из его семидесяти
трех книг по социологии в руках. Кроме того, Бенгт исполнял обязанности
эконома, и на его ответственности лежало составление дневного меню.
Германа в любое время дня можно было видеть решительно повсюду — на
верхушке мачты с метеорологическими приборами, под плотом в водолазных
очках осматривающим киль или в привязанной к плоту резиновой лодке
орудующим с воздушными шарами и каким-то странным измерительным
аппаратом. Он был у нас начальником технической части и отвечал за
метеорологические и гидрографические наблюдения.
Кнут и Торстейн всегда что-то делали со своими
полусухими батареями, паяльниками и схемами. Для того чтобы их маленькая
радиостанция работала среди брызг и сырости, на высоте 30 сантиметров
над поверхностью воды, требовался весь опыт, приобретенный ими во время
войны. Каждую ночь они по очереди посылали в эфир сведения о погоде,
которые принимались случайными радиолюбителями, передававшими затем их
Метеорологическому институту в Вашингтон и в другие адреса. Эрик обычно
сидел, чиня паруса и сплетая концы веревок; иногда он вырезал из дерева
или рисовал на бумаге наброски бородатых людей и необыкновенных рыб. А
ежедневно в полдень он

брал секстант и влезал на ящик, чтобы взглянуть
на солнце и установить, сколько мы прошли за истекшие сутки. У меня
хватало дел с судовым журналом и отчетами, с собиранием планктона,
ловлей рыбы и киносъемками. У каждого была своя область, за которую он
отвечал, и никто не вмешивался в работу других. Все менее приятные
работы, как вахты у руля и приготовление пищи, исполнялись поочередно.
Каждому приходилось проводить у рулевого весла по два часа днем и по два
часа ночью. А обязанности кока каждый из нас выполнял в соответствии с
расписанием дневных дежурств. На плоту было немного законов и правил:
ночной вахтенный должен обвязываться веревкой, спасательная веревка
должна находиться на определенном месте, в каюте нельзя есть, а
«уборной» может служить только самый дальний конец кормового бревна.
Если нужно было принять важное решение, мы на манер индейцев созывали
военный совет и, прежде чем на чем-нибудь остановиться, сообща обсуждали
вопрос.
Обычно день на борту «Кон-Тики» начинался с того, что
последний ночной вахтенный тормошил кока, и тот, заспанный, вылезал на
мокрую от росы палубу, залитую утренним солнцем, и принимался собирать
летающих рыб. Вместо того чтобы есть рыбу сырой, как это было принято у
полинезийцев и перуанцев, мы жарили ее на небольшом примусе, который
стоял внутри ящика, крепко привязанного к палубе перед дверью каюты.
Этот ящик был нашей кухней. Сюда обычно не задувал юго-восточный пассат,
от которого в другом месте на плоту трудно было укрыться. Только в тех
случаях, когда ветер и волны слишком энергично забавлялись с пламенем
примуса, деревянный ящик загорался; однажды, когда кок заснул, весь ящик
охватило пламенем, которое перекинулось на стену бамбуковой каюты. Но
как только дым проник в каюту, огонь был сразу же погашен: на «Кон-Тики»
идти за водой было недалеко.
Запаху жареной рыбы редко удавалось разбудить
храпевших в каюте, так что коку приходилось тыкать их вилкой или
приниматься петь сигнал побудки так фальшиво, что никто не мог этого
долго выдержать. Если вблизи от плота не было плавников акул, то день
начинался с непродолжительного купания в Тихом океане, после чего
следовал завтрак на открытом воздухе на краю плота.
Питание было безукоризненным. Мы проводили два
эксперимента: один имел отношение к интендантскому управлению XX века,
второй — к Кон-Тики и V веку. Первый опыт был поставлен на Торстейне и
Бенгте, питание которых состояло из специальных рационов в маленьких
тонких пакетах, хранившихся в коробках, которые мы запихали между
бревнами и бамбуковой палубой. Впрочем, Торстейн и Бенгт никогда не
питали пристрастия к рыбе и другой морской пище. Каждые несколько недель
мы развязывали веревки, прикреплявшие бамбуковую палубу, и вытаскивали
новые запасы, которые затем крепко привязывали перед каютой. Плотный
слой асфальта, покрывавший со всех сторон картонные коробки, оказался
прекрасной защитой, между тем как герметически закупоренные жестяные
банки, которые лежали рядом без упаковки, были испорчены проникшей в них
морской водой, все время плескавшейся вокруг нашего продуктового
склада.
У Кон-Тики, когда он впервые совершал путешествие по
океану, не было ни асфальта, ни герметически закупоренных банок; тем не
менее он не испытывал серьезных затруднений с продовольствием. И тогда
мореплаватели питались тем, что могли захватить с собой с суши, и тем,
что они могли раздобыть для себя в пути. Весьма вероятно, что Кон-Тики,
отплывая от берегов Перу после поражения у озера Титикака, мог иметь в
виду одну из следующих двух целей. Возможно, что он — живое воплощение
солнца среди своего обожествлявшего солнце народа — рискнул пуститься
прямо в океан, чтобы следовать по пути самого солнца, в надежде найти
новую, более мирную страну. Другая возможность для него состояла в том,
чтобы направить свои плоты вдоль побережья Южной Америки, высадиться
где-нибудь севернее и основать новое царство вне пределов досягаемости
для своих преследователей. Отплыв от опасных скалистых берегов,
населенных враждебными племенами, он, подобно нам, оказался во власти
юго-восточного пассата и течения Гумбольдта и по воле этих стихий
вынужден был описать точно такой же большой полукруг прямо в сторону
заката.
Каковы бы ни были планы этих солнцепоклонников, когда
они покидали свою родину, они, конечно, имели с собой запас
продовольствия на время путешествия. Сушеное мясо и рыба, сладкий
картофель составляли главную часть их первобытной пищи. Когда в те
времена люди пускались на плотах вдоль пустынного берега Перу, они брали
с собой большой запас воды. Вместо глиняной посуды они большей частью
пользовались огромными тыквенными бутылями, не боявшимися толчков и
ударов. Еще более удобными для пользования на плоту были толстые стволы
гигантского бамбука; в них просверливали все перегородки и наливали
внутрь ствола воду через маленькую дырку, которую затыкали какой-нибудь
втулкой, либо залепляли смолой или камедью. 30—40 толстых бамбуковых
стволов можно было привязать вдоль плота под бамбуковой палубой, и там
они лежали в тени, омываемые прохладной (26°Ц в экваториальном течении)
морской водой. Такой запас воды вдвое превышал наш расход за все время
путешествия, а его можно было и увеличить, попросту привязав еще
несколько десятков бамбуков под плотом, где они ничего не весили бы и не
занимали бы места.
По истечении двух месяцев мы обнаружили, что пресная
вода стала затхлой и приобрела неприятный вкус. Но за это время вполне
можно было миновать ту часть океана, где выпадает мало дождей, и давно
очутиться в областях, в которых запас воды пополнялся бы сильными
ливнями. Мы ежедневно выдавали по литру с четвертью воды на человека, и
далеко не всегда эта порция бывала израсходована.
Если даже наши предшественники пускались в путь, не
запасшись достаточным количеством продовольствия, они все же не
испытывали больших лишений, пока двигались по океану вместе с течением, в
котором рыба водилась в изобилии. За все время нашего путешествия не
проходило ни одного дня, чтобы мы не видели плававших вокруг плота рыб и
не могли без труда поймать их. Почти ежедневно хоть несколько летающих
рыб сами являлись к нам на плот. Случалось даже, что большие бониты,
замечательно вкусные, попадали на плот с набегавшими на корму волнами и
бились на палубе, когда вода уходила между бревнами, как сквозь сито.
Умереть от голода было невозможно.
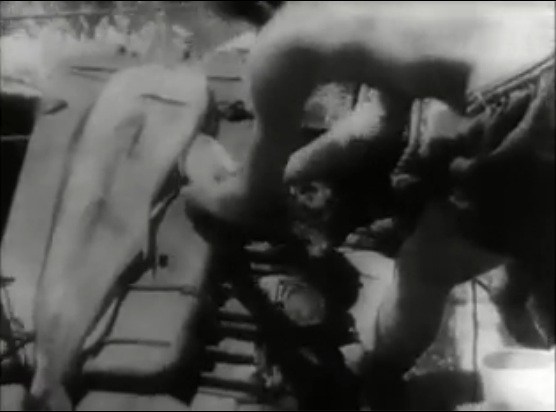
рыбалка
Древние индейцы хорошо знали способ утоления жажды, к
которому во время последней мировой войны прибегали многие потерпевшие
кораблекрушение, — высасывание влаги из сырой рыбы. Можно также
выдавливать сок, завернув кусок рыбы в какую-нибудь тряпку, а если рыба
большая, то нет ничего проще, как вырезать в ее туловище несколько ямок и
подождать, пока они быстро наполнятся жидкостью, выделяемой
лимфатическими железами рыбы. На вкус этот напиток не очень приятен —
если у вас есть для питья что-нибудь лучше, — но содержание соли в нем
так незначительно, что жажда утоляется.
Потребность в питьевой воде сильно уменьшалась, если
мы регулярно купались, а потом мокрые лежали в затененной каюте. Если
вокруг нас величественно патрулировала акула, не давая нам возможности
выкупаться по-настоящему в океане, то достаточно было просто лечь на
корме на бревна, хорошенько держась за веревки пальцами рук и ног. И
тогда мы принимали ванны в прозрачной воде Тихого океана, которая
перекатывалась через нас каждые несколько секунд.

кайф
Когда во время жары человека мучает жажда, он обычно
предполагает, что его организм требует жидкости, это часто может повести
к неумеренному расходованию запаса воды без всякой пользы. В
действительности в жаркие дни в тропиках можно выпить столько тепловатой
воды, что она начнет подступать вам к горлу, а жажда все-таки не
исчезнет. В этих случаях организм требует не жидкости, а, как это ни
странно, соли. В специальные рационы, которые мы имели с собой, входили
таблетки соли для регулярного приема их в особенно жаркие дни, так как с
потом организм выделяет соль. Мы испытывали такую жару, когда ветер
совершенно замирал, а солнце беспощадно жгло. Мы пробовали вливать в
себя столько воды, что она начинала хлюпать у нас в животе, а наши
глотки жадно требовали еще. В такие дни мы добавляли к нашему рациону
пресной воды от 20 до 40 процентов горько-соленой морской воды и, к
собственному удивлению, убеждались, что эта солоноватая вода утоляла
жажду. Мы долго ощущали во рту вкус морской воды, но никогда не
испытывали тошноты; и тем самым мы одновременно увеличивали свой рацион
воды.
Однажды утром, когда мы сидели за завтраком, шальная
волна угодила в кашу и совершенно бесплатно научила нас тому, что вкус
овсянки в значительной степени перебивает неприятный вкус морской воды.
Старики полинезийцы сохранили в памяти любопытные
предания, согласно которым их древнейшие предки, когда они переплывали
океан, имели с собой листья какого-то растения, которые они жевали для
утоления жажды. Другое свойство этого растения состояло в том, что,
положив кусочек его в рот, можно было пить, не испытывая тошноты, чистую
морскую воду. На островах Южного моря таких растений нет; они,
очевидно, росли на родине их предков. Полинезийские историки упорно
настаивали на этих фактах; современные ученые заинтересовались ими и
пришли к заключению, что единственным известным растением, обладающим
такими свойствами, является кока, который растет только в Перу. А как
доказали археологические раскопки, в доисторическом Перу это же самое
растение кока, содержащее кокаин, постоянно употреблялось и инками и их
исчезнувшими предшественниками. Отправляясь в утомительные путешествия
по горам или в плавание по океану, они брали пачки этих листьев и много
дней подряд жевали их, чтобы не испытывать жажды и усталости. Жевание
листьев кока позволяло им в течение некоторого времени даже без вреда
для себя пить морскую воду.
На «Кон-Тики» мы не пробовали листьев кока; у нас на
передней части палубы были большие плетеные корзины, наполненные другими
растениями, которые наложили глубокий отпечаток на всю жизнь островов
Южного моря. Крепко привязанные корзины стояли под защитой стены каюты,
и, по мере того как шло время, из них все выше и выше поднимались желтые
побеги и зеленые листья. Это напоминало маленький тропический сад на
деревянном плоту. Когда первые европейцы появились на островах Тихого
океана, они обнаружили большие плантации сладкого картофеля на острове
Пасхи, на Гавайских островах и в Новой Зеландии; тот же самый батат
культивировался также и на других островах, но только в пределах
Полинезии. В тех странах, которые лежали дальше на запад, он был
совершенно неизвестен. Сладкий картофель являлся одним из самых важных
культивируемых растений на этих далеких островах, где люди без него
должны были бы питаться главным образом рыбой. С этим растением связано
много полинезийских легенд. Согласно преданию, его привез не кто иной,
как сам Тики, когда вместе с женой Пани явился с первоначальной родины
их предков, где сладкий картофель был важным предметом питания.
Новозеландские легенды рассказывают, что сладкий картофель привезли
из-за океана на судах, которые не были челноками, а представляли собой
«бревна, связанные вместе веревками».
Как известно, Америка, кроме Полинезии, является
единственным местом на земле, где сладкий картофель рос до появления
европейцев. А сладкий картофель Ipomaea batatas, привезенный Тики на
острова, это тот самый картофель, который возделывался с древнейших
времен индейцами в Перу. Сушеный сладкий картофель был самым главным
продуктом питания во время путешествий и у индейцев древнего Перу и у
полинезийцев. На островах Южного моря бататы растут только при
тщательном уходе, и так как они не переносят морской воды, попытка
объяснить их широкое распространение на этих изолированных островах
тем,что их могло принести из Перу океанским течением на расстояние свыше
4 тысяч миль, совершенно несостоятельна. Такая попытка опровергнуть
столь важный довод тем более тщетна, что, как установлено филологами, на
всех раскинутых на большом пространстве островах Южного моря сладкий
картофель называют «кумара», а под этим же именем «кумара» сладкий
картофель был известен у древних индейцев в Перу. Название последовало
за бататом через океан.
Другим очень важным возделываемым в Полинезии
растением, которое мы везли с собой на «Кон-Тики», была бутылочная тыква
Lagenaria vulgaris. Не менее важное значение, чем сам плод, имела
оболочка тыквы, которую полинезийцы высушивали над костром и употребляли
в качестве сосудов для воды. Это типичное огородное растение, которое
опять-таки не могло само переплыть океан и распространиться в диком
состоянии по островам, было известно и древним полинезийцам и
первоначальным жителям Перу. Такие бутылочные тыквы, превращенные в
сосуды для воды, мы находим в заброшенных доисторических могилах на
берегах Перу; ими пользовались там рыбаки за много столетий до того, как
первые люди появились на островах Тихого океана. Полинезийское название
бутылочной тыквы, «кими», встречается и среди индейцев Центральной
Америки, куда уходит своими корнями культура Перу.
В добавление к разным южным фруктам, съеденным нами
за несколько недель, прежде чем они успели сгнить, мы имели с собой
третье растение, которое наряду со сладким картофелем сыграло наибольшую
роль в истории Тихого океана. У нас было двести кокосовых орехов,
дававших работу нашим зубам и снабжавших нас освежающим напитком.
Некоторые орехи вскоре стали прорастать, и по истечении ровно десяти
недель нашего плавания у нас появилось полдюжины крошечных пальм вышиной
в 30 сантиметров, побеги которых уже раскрылись и образовали плотные
зеленые листья. Кокосовая пальма росла в доколумбовскую эпоху и на
Панамском перешейке и в Южной Америке. Автор исторических хроник Овьедо пишет, что кокосовые пальмы росли в большом количестве
на тихоокеанском побережье Перу, когда там появились испанцы. В это
время кокосовые пальмы давно уже имелись на всех островах Тихого океана.
Ботаники пока не имеют определенных данных относительно того, каков был
путь их распространения по Тихому океану. Но одно сейчас уже
установлено. Даже кокосовый орех с его знаменитой скорлупой не может
перебраться через океан без помощи человека. Орехи, лежавшие у нас на
палубе в корзинках, оставались съедобными и не теряли способности к
прорастанию в течение всего нашего путешествия в Полинезию. Но примерно
такое же количество орехов мы положили среди коробок с продовольствием
под палубой, где вокруг них все время плескались волны. Эти орехи все до
единого были испорчены морской водой. А ведь ни один орех не может
плыть по океану быстрее, чем бальсовый плот, подгоняемый ветром.
Начиналось с того, что глазок ореха пропитывался водой и размягчался, а
затем через него морская вода проникала внутрь. Вдобавок целая армия
сборщиков мусора следила по всему океану за тем, чтобы ни один плавающий
съедобный предмет не мог перебраться из одной части света в другую.
Иногда в тихие дни среди синего океана вдали от
всяких берегов мы видели белое перо птицы, плывущее рядом с нашим
плотом. Одинокие буревестники и другие морские птицы, которые могут
спать на воде, встречались нам за тысячи миль от ближайшей земли.
Если, подплыв к маленькому перу, мы начинали его
внимательно осматривать, мы видели на нем двух-трех пассажиров, со всеми
удобствами плывших по ветру. Когда «Кон-Тики», подобно какому-то
Голиафу, обгонял их, пассажиры при виде нового судна, которое двигалось
быстрее и было гораздо поместительнее, покидали свои места и как можно
скорее перебирались по воде на плот, предоставляя перу продолжать свой
путь в одиночестве. Вскоре «Кон-Тики» кишел безбилетными пассажирами.
Это были маленькие морские крабы. Величиной с ноготь пальца, а иногда и
значительно больше, они представляли собой лакомство для великанов на
плоту, если нам удавалось поймать их. Маленькие крабы исполняли роль
полицейских на поверхности океана; они долго не раздумывали, когда
видели что-нибудь съедобное. Если кок прозевывал летающую рыбу, лежавшую
между бревнами, то на следующий день на ней уже сидели восемь или
десять маленьких крабов и угощались, вовсю работая клешнями. При нашем
приближении они большей частью пугались, быстро удирали и прятались, но
на корме в маленькой дырке у колоды для рулевого весла поселился один
краб, названный нами Юханнесом, который был совершенно ручным. Вместе с
попугаем, всеобщим нашим любимцем, краб Юханнес также входил в нашу
компанию на плоту. Если вахтенный, сидя в солнечный день за рулем спиною
к каюте, не видел рядом с собой Юханнеса, он чувствовал себя крайне
одиноким среди широкого простора синего океана. В то время как другие
маленькие крабы испуганно удирали и прятались, как тараканы на
обыкновенном корабле, Юханнес, не таясь, сидел перед своей дверью,
выпучив глаза, ожидая смены вахты. Каждый выходивший на вахту приносил
крошки галет или кусочек рыбы для Юханнеса, и достаточно было нагнуться
над его норой, чтобы он немедленно появлялся на пороге и протягивал
лапку. Он клешнями подбирал крошки с наших пальцев, убегал обратно в
норку и, сидя внизу у выхода, пережевывал пищу, как школьник, который
напихал себе полный рот.
Крабы облепили, подобно мухам, намокшие кокосовые
орехи, которые трескались от брожения, или же подбирали планктон,
выброшенный волнами на плот. А планктон, эти мельчайшие морские
организмы, представлял собой неплохую пищу даже для нас, великанов,
когда мы научились добывать его по стольку зараз, чтобы хватило на
приличный глоток.
Эти почти невидимые планктонные организмы, которые в
бесчисленном множестве плавают по океанам по воле течений, являются, без
сомнения, очень питательной пищей. Если некоторые рыбы и морские птицы
сами не питаются планктоном, то в таком случае они живут за счет других
рыб или морских животных, которые, как бы велики они ни были, питаются
им. Планктон — это общее название для тысячи видов мелких организмов,
видимых и невидимых глазу, которые плавают в океане у самой поверхности.
Некоторые из них являются растениями (фитопланктон), а другие —
свободно плавающими рыбьими икринками или крохотными животными
(зоопланктон). Животный планктон питается растительным планктоном, а
растительный планктон живет за счет аммиачных, азотистокислых и
азотнокислых соединений, которые образуются при разложении мертвого
животного планктона. Являясь пищей друг для друга, эти два вида
планктонных организмов составляют в то же время пищу для всех, кто
движется в воде и над водой. Если планктонные организмы недостаточны по
величине, то по количеству их вполне достаточно. В стакане богатой
планктоном воды их насчитывают тысячами. Не один раз люди умирали в море
от голода, потому что им не попадались рыбы такой величины, чтобы их
можно было бить острогой, ловить сетью или на крючок. В таких случаях
нередко бывало, что люди плыли буквально в сильно разбавленной ухе из
сырой рыбы. Если бы вдобавок к крючкам и сетям у них были приспособления
для процеживания ухи, среди которой они находились, они могли бы
получить питательную гущу — планктон. Когда-нибудь в будущем люди
начнут, пожалуй, думать о сборе планктона в море в больших масштабах,
как когда-то, давным-давно, им пришла в голову мысль о сборе зерна на
земле. От одного зерна пользы нет, но в больших количествах оно
становится пищей.
Один ученый-гидробиолог подал нам эту идею и снабдил
нас рыболовной сетью, подходящей для тех созданий, которых мы собирались
ловить. «Сеть» представляла собой шелковую сетку с примерно пятьюстами
ячеек на квадратный сантиметр. Она была сшита в форме воронки, широкий
конец которой был закреплен вокруг железного кольца 45 миллиметров в
диаметре. Сетка плыла на веревке за плотом. Как и при других видах
рыбной ловли, уловы бывали различными в зависимости от времени и места.
Уловы уменьшались по мере того, как вода в океане, дальше к западу,
становилась теплее; наилучшие результаты у нас бывали ночью, так как
многие виды планктонных организмов, по-видимому, уходят глубже в воду,
когда сияет солнце.
Если бы у нас не было других способов проводить время
на плоту, мы могли бы целыми днями лежать, уткнувшись носом в
планктонную сетку. Не из-за запаха, так как он был достаточно
неприятным. И не потому, что это было аппетитное зрелище, так как
похлебка имела отвратительный вид. А потому, что раскладывая улов на
палубе и разглядывая невооруженным глазом каждое из этих мельчайших
существ в отдельности, мы могли любоваться бесконечным разнообразием
фантастических форм и цветов.
Большей частью это были похожие на крошечных гарнелей
ракообразные (копеподы) или свободно плавающие икринки рыб, но
попадались также личинки рыб и моллюски, забавные миниатюрные крабы всех
цветов, медузы и множество разнообразных мелких созданий, которые могли
показаться заимствованными из «Фантазии» Уолта Диснея. Одни напоминали
порхающие бахромчатые привидения, вырезанные из целлофана, другие
походили на крошечных красноклювых птичек с твердой раковиной вместо
перьев. Не было предела расточительной изобретательности природы в мире
планктона; при виде этого зрелища любой художник-сюрреалист признал бы себя побежденным.
Когда холодное течение Гумбольдта южнее экватора
повернуло на запад, мы могли через каждые несколько часов вынимать из
сетки по одному-два килограмма планктонной кашицы. Планктон скоплялся в
сетке напоминавшими торт цветными слоями — бурыми, красными, серыми и
зелеными — в зависимости от того, по каким планктонным полям мы
проходили. Ночью, когда вода вокруг нас фосфоресцировала, нам казалось,
что мы перебираем в мешке сверкающие драгоценные камни. Но когда мы
брали их в руки, сокровища пиратов превращались в миллионы мельчайших
сверкающих гарнелей и светящихся рыбьих личинок, которые горели в
темноте, как куча раскаленных угольков. А когда мы перебрасывали их в
ведро, спрессовавшееся месиво расплывалось, как волшебная каша из
светлячков. Наш ночной улов, такой красивый издали, на близком
расстоянии имел отвратительный вид. Несмотря на неприятный запах, на
вкус он был сравнительно недурен, если у нас хватало мужества отправить в
рот ложку этого фосфора. Если улов состоял из карликовых гарнелей, он
по вкусу напоминал омара, краба или паштет из креветок. А если в
основном это были икринки глубоководных рыб, то их вкус напоминал черную
икру, иногда устриц. Несъедобный растительный планктон большей частью
состоял из таких мелких частиц, что они вместе с водой проходили сквозь
ячейки сетки, или же они были настолько крупными, что мы могли
вылавливать их пальцами. «Вредной примесью» в блюде были единичные
студенистые кишечнополостные, похожие на стеклянные шарики, и медузы
величиной с сантиметр. Они были горькие, и их приходилось выкидывать.
Все остальное можно было есть либо в натуральном виде, либо сваренным в
пресной воде наподобие каши или супа. Вкусы бывают различными. Двое из
нас считали, что планктон замечательно вкусен, двое считали, что он
вполне хорош, а для двоих одного вида его было более чем достаточно. С
точки зрения питательности планктон не уступает более крупным моллюскам;
приправленный и как следует приготовленный, он, без сомнения, может
служить первоклассным блюдом для всех любителей морской пищи.
То, что эти маленькие организмы содержат достаточно
калорий, доказано голубыми китами, которые являются самыми крупными в
мире животными, а питаются планктоном. Наш способ ловли с помощью
маленькой сетки, которая часто оказывалась изжеванной голодными рыбами,
показался нам жалким я примитивным, когда однажды, сидя на плоту, мы
увидели, как проплывавший кит выбрасывал каскады воды, попросту
процеживая планктон сквозь свои целлулоидные усы. А в один прекрасный
день вся наша сетка пропала в океане.
— Почему бы вам, планктоноедам, не поступать, как он?
— презрительно спросили Торстейн и Бенгт остальных, указывая на
пускающего фонтаны кита. — Наполняйте просто рот и выдувайте воду сквозь
усы!
Мне приходилось видеть китов издали с пароходов, и я
рассматривал их чучела в музее, но никогда у меня не бывало ощущения,
что эта гигантская туша является таким же настоящим теплокровным
животным, как, например, лошадь или слон. Конечно, как биолог, я
признавал, что кит настоящее млекопитающее. Но по своей сути он
представлялся мне со всех точек зрения большой холодной рыбой. Теперь,
когда огромные киты мчались к нашему плоту и плыли рядом с ним, наше
впечатление было иным. Однажды мы, по обыкновению, сидели за едой у
самого края плота, так близко от воды, что, для того чтобы сполоснуть
кружки, нам достаточно было откинуться назад; вдруг все мы вздрогнули от
неожиданности, когда позади нас кто-то тяжело задышал, как плывущая
лошадь, и на поверхности появился большой кит. Он смотрел на нас и был
так близко, что мы видели его дыхало, блестевшее, как начищенный
ботинок. Было так странно слышать настоящее дыхание среди океана, где
все живые существа лишены легких и, бесшумно извиваясь, шевелят своими
жабрами, что мы поистине испытывали теплое дружеское чувство к нашему
древнему отдаленному родственнику — киту, который, как и мы, забрался
так далеко в океан. Вместо холодной, жабоподобной китовой акулы, у
которой не хватало ума даже на то, чтобы высунуть нос и подышать свежим
воздухом, на этот раз нас посетил кто-то, кто напоминал откормленного
веселого бегемота из зоологического сада и сделал несколько вдохов и
выдохов (на меня это произвело наиболее приятное впечатление), прежде
чем погрузиться в воду и исчезнуть.
Киты посещали нас много раз. Большей частью это были
маленькие морские свиньи и зубатые киты, большими стаями резвившиеся
около нас на поверхности воды; но время от времени встречались и большие
кашалоты или другие гигантские киты, которые плавали поодиночке или
стаями в несколько штук. Иногда они проплывали, как корабли, на
горизонте, то и дело выбрасывая в воздух фонтаны воды, но в других
случаях они направлялись прямо на нас. В первый раз, когда большой кит
изменил курс и явно намеренно направился прямо к плоту, мы приготовились
к опасному столкновению. По мере того как кит приближался, всякий раз,
как он высовывал голову из воды, мы все яснее слышали его тяжелое и
редкое пыхтящее дыхание. Казалось, в воде с трудом двигалось огромное,
толстокожее, неуклюжее сухопутное животное, столь же не похожее на рыбу,
как летучая мышь не похожа на птицу. Кит подплыл к левому борту, где мы
все собрались у самого края плота; один из нас сидел на верхушке мачты и
кричал, что видит еще семь или восемь китов, направляющихся к нам.
Большой блестящий черный лоб первого кита показался
не дальше чем в двух метрах от нас, но вдруг он погрузился в воду, и
затем мы увидели, что огромная иссиня-черная спина медленно скользнула
под плот как раз под нашими ногами. Некоторое время кит лежал там,
темный и неподвижный, а мы затаив дыхание смотрели вниз на гигантскую
изогнутую спину млекопитающего, длиной намного превосходившего весь
плот. Потом оно медленно погрузилось в синеватую воду и исчезло из виду.
Тем временем вокруг плота собралась вся стая, но она не обращала на нас
внимания. Вероятно, люди нападали первыми на тех китов, которые
употребляли во зло свою колоссальную силу и топили ударами хвоста
китобойные баркасы. Все утро мы видели вокруг себя в самых неожиданных
местах шумно дышавших китов, но ни разу они не толкнули ни плот, ни
рулевое весло. Они вполне довольствовались тем, что спокойно резвились в
освещенных солнцем волнах. Но около полудня вся стая, словно по
сигналу, нырнула и исчезла навсегда.
Не только китов приходилось нам видеть у себя под
плотом. Подняв камышовые циновки, на которых мы спали, мы могли сквозь
щели между бревнами смотреть прямо вниз в прозрачную синюю воду. Если
пролежать так некоторое время, то можно было заметить покачивавшийся
грудной или хвостовой плавник, а время от времени и всю рыбу. Если бы
щели были на несколько сантиметров шире, мы могли бы с полным комфортом
лежать в постели с удочкой и ловить рыбу под своими матрацами.
Чаще всех увязывались за плотом золотые макрели и
лоцманы. Начиная с того момента, когда первые золотые макрели
присоединились к нам в течении Гумбольдта за бухтой Кальяо, не проходило
дня за все время путешествия, чтобы мы не видели извивавшихся вокруг
нас крупных экземпляров. Что привлекало их к плоту, мы не знали; может
быть, они испытывали таинственное влечение к тому, чтобы плавать в тени,
имея над собой движущуюся крышу; или же их привлекала пища, которую они
находили в нашем огороде из водорослей и ракушек, бахромой свисавших со
всех бревен и рулевого весла. Обрастание началось с тонкого ровного
слоя зелени, но затем зеленые наросты водорослей стали увеличиваться с
изумительной быстротой, так что «Кон-Тики», карабкаясь по волнам, имел
вид какого-то бородатого морского божества. А среди зеленых водорослей
было любимое убежище крохотных мальков и наших безбилетных пассажиров —
крабов. Одно время плот заполонили муравьи. В некоторых бревнах были
мелкие черные муравьи, и когда мы очутились в море и древесина стала
пропитываться влагой, муравьи выползли и перебрались в спальные мешки.
Они были повсюду и так кусали и мучили нас, что мы начали опасаться, как
бы они не выжили нас с плота. Но постепенно, когда в океане нас стало
все чаще заливать волнами, муравьи поняли, что эта обстановка не для
них, и лишь несколько единичных насекомых выдержали переезд через океан.
Лучше всего, наряду с крабами, чувствовали себя на плоту морские уточки длиною в 25—40 миллиметров. Они размножались
сотнями, в особенности на подветренной стороне плота, и, как только мы
отправляли взрослых рачков в суповой котел, молодые личинки укоренялись и
принимались расти. Рачки эти обладали свежим и приятным вкусом; для
салата мы набирали водоросли — он тоже был съедобен, но не так хорош.
Фактически мы ни разу не видели, чтобы золотые макрели кормились в
огороде, но они то и дело поворачивались своим блестящим брюхом вверх и
подплывали под бревна.
Золотая макрель — тропическая рыба с блестящей
окраской — обычно бывает длиной от 100 до 135 сантиметров и имеет сильно
сплющенное туловище с очень высокой головой и шеей. Однажды мы вытянули
на плот рыбу длиной в 143 сантиметра; ее голова имела в вышину 37
сантиметров. Расцветка золотой макрели великолепна. В воде она
переливается синими и зелеными красками, как мясная муха, и сверкает
золотисто-желтыми плавниками. Но когда мы вытаскивали их из воды, иногда
наблюдалось странное явление. Умирая, рыба постепенно меняла окраску,
становясь сначала серебристо-серой с черными пятнами, а в конце концов
сплошь серебристо-белой. Это продолжалось четыре-пять минут, а затем
снова медленно восстанавливалась прежняя окраска. Даже в воде золотая
макрель иногда меняет, как хамелеон, свой цвет; часто мы замечали «новую
разновидность» блестящих рыб медного цвета, которые при ближайшем
знакомстве оказывались нашими старыми спутниками — золотыми макрелями.
Высокий лоб придавал золотой макрели сходство с
бульдогом со сплющенными боками; и когда хищник бросался, как торпеда, в
погоню за удирающей стаей летающих рыб, он своим лбом рассекал
поверхность воды. Если золотая макрель бывала в хорошем настроении, она
поворачивалась на бок, быстро проносилась вперед, подпрыгивала высоко в
воздух и, как блин, плашмя шлепалась обратно; такие прыжки повторялись
через одинаковые промежутки времени и каждый раз сопровождались столбом
брызг. Едва она успевала погрузиться в воду, как снова появлялась для
следующего прыжка и снова для следующего, перелетая через волны. Но
когда она была в плохом настроении, например когда мы вытаскивали ее на
плот, тогда она кусалась. Торстейн несколько дней хромал и ходил с
тряпкой вокруг большого пальца ноги, так как он угодил им в рот золотой
макрели, которая не преминула воспользоваться случаем сжать челюсти и
впиться зубами несколько сильней, чем обычно. По возвращении на родину
нам пришлось услышать, что золотые макрели иногда нападают на купающихся
людей и съедают их. Это было плохим комплиментом для нас, если принять
во внимание, что мы ежедневно купались среди золотых макрелей, не
вызывая в них особого интереса. Все же они были опасными хищниками, так
как мы находили в их желудках и кальмаров и целых летающих рыб.
Летающие рыбы были излюбленной пищей золотых
макрелей. Если на поверхности воды что-то всплескивало, они опрометью
бросались туда в надежде, что это летающие рыбы. Часто в дремотные
утренние часы, когда мы, щурясь, вылезали из каюты и еще полусонные
окунали зубную щетку в океан, мы сразу же просыпались, подскакивая от
неожиданности при виде пятнадцатикилограммовой рыбы, которая молнией
вылетала из-под плота и разочарованно тыкалась носом в зубную щетку.
Случалось, что мы спокойно сидели за завтраком на краю плота, а в это
время золотая макрель выпрыгивала из воды и с такой силой шлепалась на
бок, что морская вода окатывала наши спины и попадала в еду.
Однажды, когда мы сидели за обедом, с Торстейном
произошел случай, какой бывает только в самых невероятных охотничьих
рассказах. Он внезапно положил вилку и опустил руку в океан; прежде чем
мы поняли, что случилось, вода забурлила, и большая извивающаяся золотая
макрель очутилась среди нас.
Оказывается, Торстейн схватил конец лесы, медленно
проплывавшей мимо нас, на другом конце которой висела на крючке
совершенно ошарашенная золотая макрель, оборвавшая лесу Эрика, когда тот
рыбачил несколько дней тому назад.
Не проходило дня без того, чтобы шесть, семь золотых
макрелей не сопровождали нас, кружа вокруг плота и под ним. В плохие дни
их могло быть только две или три, но зато назавтра их появлялось до
тридцати или сорока. Обычно достаточно было предупредить кока за
двадцать минут, если мы хотели получить к обеду свежую рыбу. Тогда он
привязывал кусок шпагата к короткой бамбуковой палке и насаживал на
крючок половину летающей рыбы. Золотая макрель являлась в мгновение ока,
в погоне за крючком бороздя головой поверхность воды, а за ней по пятам
следовали еще две или три. Это была увлекательная рыбная ловля, а мясо
только что пойманной золотой макрели было плотное и превосходное на
вкус, напоминая одновременно треску и семгу. Оно не портилось два дня, а
большего нам и не надо было, так как рыбы в океане водилось достаточно.
Знакомство с лоцманами происходило у нас иным путем.
Акулы приводили их и после своей смерти оставляли нам для усыновления.
Уже вскоре после нашего отплытия плот посетила первая акула. А затем они
стали почти ежедневными гостьями. Иногда акула просто подплывала, чтобы
осмотреть плот, и, описав вокруг один или два круга, отправлялась
дальше на поиски добычи. Но чаще акулы пристраивались за кормой, как раз
позади рулевого весла; там они лежали совершенно бесшумно, переводя
взгляд с одного борта на другой, и лишь изредка чуть-чуть шевелили
хвостом, чтобы не отстать от спокойно двигавшегося плота. Серо-голубое
туловище акулы, находившейся у самой поверхности воды, в лучах солнца
казалось буроватым; оно поднималось и опускалось вместе с волнами, так
что спинной плавник все время угрожающе выступал из воды. Если море было
бурным, то волны иногда поднимали акулу гораздо выше плота, тогда она
величественно плыла к нам в сопровождении суетливой свиты маленьких
лоцманов, державшихся перед ее пастью, и мы видели ее всю целиком, как в
стеклянном ящике. В течение нескольких секунд нам казалось, что и акула
и ее полосатые спутники вот-вот окажутся на самом плоту, но затем плот
грациозно наклонялся в подветренную сторону, взбирался на гребень волны и
спускался по другую сторону ее.
Вначале мы относились к акулам с большим почтением
из-за их репутации и угрожающего вида. В этом заостренном туловище,
представляющем собой огромный ком стальных мышц, была заключена
необузданная сила, а широкая плоская голова с маленькими зелеными
кошачьими глазами и громадной пастью, в которой мог поместиться
футбольный мяч, говорила о безжалостной алчности. Когда человек у руля
кричал «акула вдоль правого борта» или «акула вдоль левого борта», мы
выскакивали на палубу, хватали ручные гарпуны и остроги и выстраивались
вдоль края плота. Обычно акула бесшумно плавала вокруг нас, чуть не
прижимаясь спинным плавником к бревнам. Наше уважение к акуле еще
увеличилось, когда мы увидели, что остроги гнулись, как спагетти, отскакивая от напоминавшей наждачную бумагу брони на
спине акулы, а наконечники ручных гарпунов ломались в пылу схватки. Если
нам и удавалось пронзить кожу акулы и добраться до ее мышц и хрящей,
это приводило только к волнующей борьбе; вода вокруг нас кипела, но дело
кончалось тем, что акула вырывалась и уходила, а на поверхности воды
оставалось маленькое маслянистое пятно, постепенно расплывавшееся.

быт на плоту
Чтобы сохранить наш последний гарпун, мы связали в
пучок несколько самых крупных рыболовных крючков и засунули их в
туловище золотой макрели. Затем мы спустили приманку за борт,
предусмотрительно заменив лесу стальным многожильным тросиком, который
мы прикрепили к концу нашей спасательной веревки. Медленно и решительно
акула приблизилась; высунув голову над водой, она раскрыла свою
серповидную пасть, рванув, схватила целиком золотую макрель и проглотила
ее. Тут она и попалась. Завязалась битва, во время которой акула
вспенила всю воду вокруг плота, но мы крепко вцепились в веревку и
подтащили сопротивлявшуюся изо всех сил громадину к самым бревнам кормы;
там она лежала в ожидании дальнейших событий и лишь широко разевала
пасть, как бы желая запугать нас рядами своих острых, как пила, зубов.
Набежавшая волна вкатила акулу на край скользких от водорослей бревен;
набросив веревочную петлю на хвостовой плавник туловища, мы поспешно
отбежали на почтительное расстояние и ждали, пока закончится военный
танец.

Кон-Тики
В хряще первой акулы мы обнаружили наконечник нашего
собственного гарпуна и вначале думали, что этим объясняется ее
сравнительно слабое сопротивление. Но впоследствии мы таким же способом
ловили одну акулу за другой, и каждый раз без особого труда. Как бы ни
дергала и ни упиралась акула, какого колоссального труда ни стоило бы
подтягивать ее в воде, она становилась совершенно беспомощной и
пассивной и никогда не могла полностью использовать свою чудовищную
силу, если только нам удавалось туго натягивать лесу, не уступая ни
сантиметра в этой борьбе — «кто кого перетянет». Акулы, которых мы
вытаскивали на плот, обычно имели в длину от двух до трех метров и среди
них попадались и голубые и бурые. У последних кожа, обтягивавшая массу
мышц, была очень твердой; для того чтобы пробить ее острым ножом, мы
должны были ударять изо всех сил, и даже тогда нож часто отскакивал. На
животе кожа была столь же непроницаема, как и на спине, и единственным
уязвимым местом являлись жаберные щели за головой, по пять штук с каждой
стороны.
Когда мы вытаскивали акулу, на ее туловище обычно
оказывались крепко прицепившиеся черные скользкие прилипалы. С помощью
овального присоска на темени плоской головы они прилеплялись так крепко,
что нам не удавалось оторвать их, хотя мы изо всех сил тащили за хвост.
Но прилипалы сами могли отцепиться и в одно мгновение перебраться на
другое место. Если им надоедало висеть, крепко присосавшись к акуле,
когда их старый хозяин не обнаруживал намерения вернуться в океан, они
спрыгивали с него и исчезали в щелях плота, чтобы поплыть на поиски
другой акулы. А если прилипало не находил акулы, он временно
присасывался к коже какой-нибудь другой рыбы. Прилипалы бывали разные — и
в палец длиной и в тридцать сантиметров. Мы пробовали повторить старый
трюк полинезийцев, к которому они иногда прибегают, если им удается
заполучить живого прилипалу. Они привязывают бечевку к его хвосту и
пускают в воду. Прилипало старается присосаться к первой попавшейся рыбе
и вцепляется в нее так крепко, что удачливый рыбак может вытащить
вместе с прилипалой и рыбу, на которой тот держится. Нам удачи не было.
Всякий раз, как мы выпускали прилипалу с привязанной к его хвосту
бечевкой, он стремглав уплывал и крепко присасывался к одному из бревен
плота, думая, что ему попалась исключительно хорошая большая акула. И
там он висел, как бы сильно мы ни дергали за веревку. Постепенно у нас
появилось изрядное количество таких мелких прилипал; они, покачиваясь,
упрямо висели среди ракушек на бревнах плота и путешествовали с нами по
Тихому океану.
Но прилипалы были глупы и уродливы и никогда не
становились нашими любимцами, как их веселые товарищи — лоцманы. Лоцманы
— маленькие сигарообразные, полосатые, как зебры, рыбы, которые быстро
плывут стаями перед мордой акулы. Свое название они получили из-за того,
что по распространенному когда-то мнению, они служили лоцманами для
своего полуслепого приятеля, указывая ему путь в море. На самом деле,
они просто движутся вместе с акулой и если действуют независимо от нее,
то лишь в тех случаях, когда в поле их зрения попадает какая-нибудь
пища. Лоцман сопровождает своего господина и повелителя до последнего
мгновения. Но так как он не может прицепиться к коже гиганта, как это
делают прилипалы, он приходит в полное изумление, если его старый хозяин
неожиданно исчезает в воздухе и не возвращается обратно. Тогда лоцманы
начинают растерянно сновать взад и вперед в поисках хозяина и всегда
возвращаются и вьются у кормы плота, где исчезла акула. Время идет, но
акула не возвращается, и им приходится искать для себя нового господина и
повелителя. А под боком, ближе всех — сам «Кон-Тики».
Если мы ложились на край плота и свешивали голову в
прозрачную воду, нижняя часть плота представлялась нам брюхом какого-то
морского чудовища; рулевое весло походило на хвост, а кили выступали
наподобие тупых плавников. И между ними друг подле друга плавали все
усыновленные нами лоцманы, которые не обращали никакого внимания на
пускавшие пузыри головы людей; разве только Одна-две рыбешки быстро
шарахались в сторону и тыкались нам в нос, чтобы затем опять спокойно
вильнуть обратно и занять свое место в рядах неутомимых пловцов.
Наши лоцманы патрулировали двумя отрядами: большая
часть плавала между килями, остальные изящным веерообразным строем
держались перед самым носом плота. Время от времени они стремительно
бросались в сторону, чтобы схватить какую-нибудь съедобную безделицу,
проплывавшую мимо; а после наших трапез, когда мы мыли за бортом посуду,
могло показаться, что вместе с объедками мы высыпали в воду целый
сигаретный ящик полосатых лоцманов. Они не пропускали ни одного кусочка,
не исследовав его, и если он был не растительного происхождения, то
немедленно проглатывался. Эти забавные рыбки ютились под нашим крылышком
с такой детской доверчивостью, что мы, подобно акулам, испытывали по
отношению к ним какое-то отцовское покровительственное чувство. Лоцманы
стали морскими любимцами «Кон-Тики», и было установлено «табу»,
запрещавшее трогать их.
Среди нашей свиты были, конечно, лоцманы, не вышедшие
еще из детского возраста, ибо они имели в длину немногим больше двух
сантиметров, тогда как большинство было длиной сантиметров в пятнадцать.
Когда китовая акула, после того как гарпун Эрика вонзился в ее череп,
умчалась с молниеносной быстротой, некоторые из сопровождавших ее
лоцманов перешли на сторону победителя; они были длиной в шестьдесят
сантиметров. Вскоре после ряда побед за «Кон-Тики» следовало 40—50
лоцманов, и многим из них так понравилось спокойное плавание и
ежедневные объедки, что они сопровождали нас на протяжении тысяч миль.
Но иногда лоцманы оказывались вероломными. Однажды во
время вахты у руля я обратил внимание на то, что к югу от нас вода
внезапно забурлила, и увидел огромную стаю золотых макрелей, которые,
подобно блестящим торпедам, неслись к нам. Обычно они приближались,
мирно играя, то подскакивая, то шлепаясь обратно в воду плоскими боками;
на этот раз они неслись с бешеной скоростью больше по воздуху, чем по
воде. Синяя зыбь была взбита в белую пену судорожными движениями
беспорядочно мчавшихся беглецов, а за ними, как быстроходный моторный
катер, зигзагами мчалась чья-то черная спина. Золотые макрели отчаянными
скачками приблизились к самому плоту; здесь они нырнули и, тесно
сбившись стаей чуть не в сотню штук, метнулись к востоку, так что все
море у нас за кормой засверкало яркими красками. Блестящая спина
преследователя наполовину выступила над поверхностью воды, описав
изящную кривую, нырнула под плот и понеслась, как торпеда, за стаей
золотых макрелей. Это была дьявольски здоровенная голубая акула, длиной,
пожалуй, около шести метров. Когда она исчезла, с ней ушла и часть
наших лоцманов. Они нашли более привлекательного морского героя и решили
присоединиться к нему.
По мнению специалистов, из всех морских животных
больше всего нам следовало опасаться кальмаров, так как они могли
забраться на плот. В Национальном географическом обществе в Вашингтоне
нам показали отчеты и драматические снимки, сделанные при вспышках
магния: из снимков явствовало, что один из районов течения Гумбольдта
очень часто посещается чудовищными кальмарами, по ночам выплывающими на
поверхность океана. Они так прожорливы, что если один из них вцепится в
кусок мяса и окажется пойманным на крючок, немедленно появляется другой и
начинает поедать своего плененного родича. У них такие щупальца, что с
их помощью они приканчивают крупную акулу и оставляют безобразные рубцы
на теле больших китов; а между щупальцами у них спрятан дьявольский
клюв, не уступающий орлиному. Нам напоминали, что кальмары часто лежат
на воде со светящимися в темноте глазами и что своими длинными
щупальцами они могут проникнуть во все уголки плота, если даже им будет
лень вскарабкаться на самый плот. Нам вовсе не улыбалась перспектива
почувствовать, как холодные щупальца сжимают нам ночью шею и вытаскивают
из спальных мешков; поэтому на случай, если бы мы вдруг проснулись от
прикосновения щупалец, мы захватили с собой тяжелые ножи-мачете, по
одному на каждого. Мысль о кальмарах сильнее всего тревожила нас перед
отплытием, в особенности после того, как океанографы в Перу заговорили с
нами на ту же тему и продемонстрировали карту, на которой наиболее
опасный участок был отмечен как раз в самом течении Гумбольдта.
Долгое время мы не замечали никаких признаков этих
моллюсков ни на плоту, ни в океане. Но вот однажды утром мы получили
первое предупреждение, что они находятся в этих водах. Когда взошло
солнце, мы обнаружили на плоту отродье кальмара в виде маленького
детеныша величиной с кошку. Ночью он без всякой посторонней помощи
взобрался на палубу и теперь лежал мертвый, обвив щупальцами бамбуковую
жердь перед дверью каюты. Густая чернильно-черная жидкость растеклась по
бамбуковой палубе и образовала лужицу вокруг кальмара. Мы исписали
несколько страниц в судовом журнале этими чернилами, которые напоминали
черную тушь, а затем выбросили труп детеныша за борт на радость золотым
макрелям.
Мы сочли, что это незначительное происшествие
предвещает появление более крупных ночных посетителей. Если детеныш мог
забраться на плот, то его голодный родитель, без сомнения, способен на
то же. Наши предки испытывали, вероятно, такое же чувство, когда они
плавали на своих кораблях в эпоху викингов и думали о духе моря. Но
следующее событие совершенно сбило нас с толку. Как-то утром мы
обнаружили на коньке нашей крыши из пальмовых листьев молодого кальмара
еще меньших размеров. Это сильно нас озадачило. Он не мог сам влезть
туда, так как чернильные пятна виднелись только вокруг него, посредине
крыши. Его не могла уронить туда морская птица, так как на нем не было
никаких повреждений или следов от клюва. Мы пришли к выводу, что его
забросило на крышу волной, захлестнувшей плот, хотя ни один из вахтенных
не помнил, чтобы ночью была такая волна. Проходила одна ночь за другой,
и мы регулярно находили на плоту новых молодых кальмаров, самый
маленький из которых был величиной со средний палец.
Скоро мы привыкли к тому, что каждое утро на палубе
среди летающих рыб оказывались один-два маленьких кальмара, если даже
море ночью было спокойным. Эти молодые кальмары принадлежали к той самой
дьявольской разновидности, о которой нам рассказывали; у них имелось
восемь длинных щупалец, усеянных круглыми присосками, и два еще более
длинных, с шипообразными крючками на конце. Но большие кальмары ни разу
не появлялись на плоту. Темными ночами мы видели сияние фосфоресцирующих
глаз, медленно плывших у самой поверхности воды; и только
один-единственный раз океан вокруг нас закипел и забурлил, когда что-то
вроде большого колеса всплыло наверх и перевернулось в воздухе, а
некоторые из наших золотых макрелей пытались спастись бегством, в
отчаянии выпрыгивая из воды. Но почему большие кальмары никогда не
появлялись на плоту, хотя маленькие были нашими постоянными ночными
посетителями, долго оставалось для нас полнейшей загадкой; решение мы
нашли только через два месяца — два месяца, богатых опытом, — когда мы
были уже вне пределов злополучного района кальмаров.
Молодые кальмары продолжали являться на плот. Одним
солнечным утром мы все увидели стаю каких-то блестящих созданий, которые
выпрыгивали из воды и летели по воздуху, напоминая крупные дождевые
капли, между тем как море кипело от преследовавших их золотых макрелей.
Сначала мы думали, что это стая летающих рыб, так как у нас на плоту
побывало уже три разновидности их. Но когда они приблизились и некоторые
стали перелетать через плот на высоте примерно полутора метров, одна из
них ударилась о грудь Бенгта и шлепнулась на палубу. Это был маленький
кальмар. Наше удивление не имело предела. Когда мы поместили его в
брезентовое ведро, он продолжал отталкиваться и подскакивать вверх, но в
маленьком ведре он не мог развить достаточной скорости и лишь
наполовину выпрыгивал из воды. Общеизвестно, что кальмар обычно плавает
по принципу ракетного самолета. Он с большой силой пропускает воду
сквозь закрытую трубку, проходящую сбоку в его туловище, и таким образом
может очень быстро, толчками, двигаться назад; подобрав все свои
щупальца и сложив их кистью на голове, он приобретает обтекаемую, как У
рыбы, форму. По бокам у него находятся две круглые толстые складки кожи,
которые обычно служат для управления и спокойного плавания в воде. Но
вот мы обнаружили, что беззащитные молодые кальмары, которые являются
излюбленной пищей для многих крупных рыб, могут ускользать от своих
преследователей, поднимаясь в воздух, подобно летающим рыбам. Они
осуществили на деле принцип ракетного самолета задолго до того, как
человеческий гений напал на эту идею. Они накачивают и выпускают из себя
морскую воду до тех пор, пока не приобретают громадной скорости, а
затем, расправив складки кожи наподобие крыльев, они отрываются под
углом от поверхности воды. Как и летающие рыбы, они несутся планирующим
полетом над волнами до тех пор, пока не иссякает накопленная ими
скорость. После этого случая мы стали обращать на них внимание и часто
видели, как они поодиночке, по двое или по трое пролетали 45—55 метров.
Тот факт, что кальмар может планировать, явился новостью для всех
зоологов, с которыми нам пришлось встретиться по возвращении из
экспедиции.
Бывая в гостях у местных жителей тихоокеанских
островов, я часто ел кальмаров. По вкусу они напоминают смесь омара и
резины. Но на «Кон-Тики» кальмары занимали последнее место в нашем меню.
Если они бесплатно попадали нам в руки, мы меняли их на что-нибудь
другое. Обмен совершался следующим образом: мы насаживали кальмара на
крючок и забрасывали его в океан, а затем вытаскивали его назад со
вцепившейся в него большой рыбой. Молодые кальмары нравились даже тунцам
и бонитам, а эти рыбы занимали в нашем меню почетное место.
Мы не испытывали недостатка в новых знакомствах,
когда нас медленно несло по океану. В моем дневнике имеется много
записей в следующем роде:
«11/5. Сегодня, когда мы сидели за ужином на краю
плота, какое-то большое морское животное дважды появлялось на
поверхности рядом с нами. Оно страшно плескалось, затем исчезло. Мы не
имеем понятия, что это за животное.
6/6. Герман видел толстую темную рыбу с широким белым
брюхом, узким хвостом и шипами. Она несколько раз выпрыгивала из воды
со стороны правого борта.
16/6. С левого борта видна любопытная рыба. В длину
около двух метров, максимальная ширина 30 сантиметров; удлиненная тонкая
голова бурого цвета, большой спинной плавник у головы и поменьше на
средине спины, мощный серповидный хвостовой плавник. Держится у
поверхности, временами плавает, извиваясь, как угорь. Когда Герман и я с
ручным гарпуном поплыли в резиновой лодке, она нырнула. Позже
показалась опять, но вскоре нырнула и исчезла.
17/6. В полдень Эрик сидел на верхушке мачты и
заметил 30—40 длинных узких рыб бурого цвета — таких же, как накануне.
На этот раз они быстро приближались с левой стороны и исчезли за кормой,
промелькнув в воде бурой плоской тенью.
18/6. Кнут заметил какое-то существо, похожее на
змею, узкое, длиною в 60—90 сантиметров; оно виднелось в воде у самой
поверхности, то разгибалось, то сгибалось, а затем нырнуло, извиваясь,
как змея».
Иногда мы медленно проплывали мимо большой темной
массы, которая неподвижно лежала у самой поверхности, напоминая
подводную скалу площадью с комнату. По всей вероятности, это был
гигантский скат с очень плохой репутацией, но он ни разу не шевельнулся,
а мы ни разу не подходили настолько близко, чтобы иметь возможность
ясно рассмотреть его очертания.
При наличии в воде такого разнообразного общества
время для нас всегда проходило быстро. Хуже бывало, когда нам самим
приходилось нырять в океан и осматривать веревки с нижней стороны плота.
Однажды один из килей выпал и скользнул под плот; там он запутался в
веревках, но мы не могли его достать. Лучше всех ныряли Герман и Кнут.
Дважды Герман подплывал под плот и, лежа там среди золотых макрелей и
лоцманов, пытался высвободить доску. Он только что вынырнул во второй
раз и сидел на краю плота, чтобы перевести дыхание, как вдруг в
каких-нибудь трех метрах мы заметили двухсполовинойметровую акулу,
которая медленно подымалась из глубины, направляясь к кончикам пальцев
его ног. Может быть, мы были по отношению к акуле несправедливы, но мы
заподозрили ее в злом умысле и вонзили гарпун ей в череп. Акула
почувствовала себя оскорбленной, и началась борьба, сопровождавшаяся
фонтанами брызг, в результате которой акула скрылась, оставив масляное
пятно на поверхности воды. А запутавшийся в веревках киль продолжал
лежать под плотом.
Тогда Эрику пришла в голову мысль смастерить
водолазную корзину. У нас под руками имелось мало материалов, но у нас
были бамбук, веревки и старая лубяная корзина, в которой лежали
кокосовые орехи. С помощью бамбука и сплетенных веревок мы нарастили
верх корзины и теперь имели возможность спускаться за борт в ней.
Соблазнительные ноги были спрятаны в корзине, и хотя веревочное плетение
наверху оказывало лишь психологическое действие и на нас и на рыб, все
же, если кто-нибудь несся на нас с враждебными намерениями, мы могли
моментально скрючиться на дне корзины, а оставшиеся на палубе товарищи
сразу вытащили бы нас из воды.
Водолазная корзина оказалась не только полезной, но
постепенно стала для нас прекрасным местом развлечения. Она давала нам
великолепную возможность для изучения плавучего аквариума, находившегося
под нами.
Когда океан спокойно катил свои волны, мы по очереди
залезали в корзину, и нас спускали под воду, где мы оставались, пока
хватало дыхания. Внизу в воде свет как-то необычайно преображался и
предметы не отбрасывали тени. Как только наши глаза оказывались под
водой, источник света — в отличие от нашего надводного мира — как бы
переставал существовать. Преломленные лучи доходили до нас не только
сверху, но и снизу; солнце больше не сияло, оно было повсюду. Если мы
смотрели вверх, на дно плота, то оно представлялось нам ярко освещенным;
девять больших бревен и вся сеть веревочных креплений вместе с
покачивающимися гирляндами ярко-зеленых водорослей, свисавших со всех
сторон плота и с рулевого весла, — все было залито таинственным светом.
Лоцманы плавали стройными рядами, напоминая зебр в рыбьей коже, а
большие золотые макрели неутомимо, настороженно, быстро описывали круги,
выслеживая добычу. Тут и там свет падал на разбухшую красную древесину
киля, который выступал вниз из щели; на доске сидела мирная колония
белых морских уточек, ритмично шевеливших бахромчатыми желтыми жабрами,
вбирая в себя кислород и пищу. Если кто-нибудь приближался к ним, они
поспешно захлопывали створки своих раковин с красной и желтой каймой и
сидели за закрытой дверью, пока не убеждались, что опасность миновала.
Здесь внизу свет отличался изумительной ясностью и действовал на нас,
привыкших на палубе к тропическому солнцу, очень успокаивающе. Даже
тогда, когда мы смотрели вниз в бездонную глубину океана, где царит
вечная черная ночь, эта ночь являлась нам окрашенной в приятный голубой
цвет, так как от нее отражались солнечные лучи. К нашему удивлению, мы,
находясь у самой поверхности, могли видеть рыб, плававших далеко внизу, в
глубине ясной чистой синевы. Возможно, это были бониты, но встречались и
другие виды, которые плавали на такой глубине, что мы не могли их
определить. Иногда они держались огромными стаями, и мы часто задавали
себе вопрос, все ли океанское течение полно рыбы или эти стаи,
проплывавшие внизу, в глубине, намеренно собрались под «Кон-Тики», чтобы
на несколько дней составить нам компанию.
Больше всего нам нравилось опускаться в воду, когда
нас посещали большие тунцы с золотыми плавниками. Иногда они приплывали к
плоту большими стаями, но чаще всего являлись по двое или по трое и
несколько дней подряд описывали вокруг нас спокойные круги, пока нам не
удавалось приманить их на крючок. С плота они казались просто большими,
неуклюжими рыбами буроватого цвета, без каких-либо особых украшений; но
если мы спускались к ним в их собственную стихию, они вдруг ни с того ни
с сего меняли и цвет и форму. Перемена была настолько необъяснимой, что
мы несколько раз должны были подниматься на поверхность и снова
определять направление, чтобы проверить, те ли это рыбы, на которых мы
смотрели в воде. Большие рыбы не обращали на нас никакого внимания; они
невозмутимо продолжали свои величественные маневры и принимали такую
изящную форму, какой мы не наблюдали ни у одной другой рыбы, а их
окраска становилась бледно-лиловой, с металлическим оттенком. Своими
совершенными пропорциями и обтекаемой формой они напоминали сверкающие
серебром и сталью мощные торпеды, и им достаточно было чуть-чуть
пошевелить одним или двумя плавниками, чтобы их туловище весом в 70—80
килограммов с непревзойденным изяществом заскользило в воде.
Чем теснее соприкасались мы с океаном и его
обитателями, тем меньше мы удивлялись и тем привычнее он становился для
нас. И мы научились уважать древние первобытные народы, которые жили в
тесном общении с Тихим океаном и поэтому знали такие его особенности, о
которых мы не имеем представления. Конечно, мы установили теперь
содержание соли в воде океана и дали тунцам и золотым макрелям латинские
названия. Древние полинезийцы этого не сделали. И все же боюсь, что
первобытные народы имели об океане более правильное представление, чем
мы.
Здесь, в океане, почти не было путеводных вех. Волны и
рыбы, солнце и звезды появлялись и исчезали. Предполагалось, что
никакой суши не существует на всем протяжении в 4 300 морских миль,
которые отделяют острова Южного моря от Перу. Поэтому мы очень
удивились, когда, приближаясь к 100° западной долготы, обнаружили, что
на карте Тихого океана, прямо впереди нас по курсу, которым мы
следовали, отмечена подводная скала. Ее изобразили в виде маленького
кружка, и так как карта была издана в этом году, мы заглянули в «Лоцию
Южной Америки». Мы прочли: «В 1906, а затем снова в 1926 году были
замечены буруны примерно в 600 милях к юго-западу от островов Галапагос,
под 6° 42' южной широты, 99° 43' западной долготы. В 1927 году пароход
прошел в одной миле к западу от этого пункта, но у него не заметили
никаких бурунов; в 1934 году другой пароход прошел в одной миле к югу и
также не обнаружил никаких следов бурунов. Моторное судно «Каури» в 1935
году при промере не достигло в этом пункте дна на глубине 300 метров».
Согласно картам плавание в этом районе все еще
считалось делом сомнительным, и, так как глубоко сидящее судно, слишком
близко подойдя к мели, подвергалось бы гораздо большему риску, чем наш
плот, мы решили направиться прямо к месту, отмеченному на карте, и
посмотреть, что там находится. Подводная скала была указана чуть-чуть
севернее той точки, к которой мы, по-видимому, держали курс; поэтому мы
положили руль вправо и подтянули четырехугольный парус так, что нос
плота был устремлен примерно на север, а волны и ветер мы принимали с
правого борта. Теперь в наши спальные мешки попадало тихоокеанской воды
несколько больше обычного; к тому же и ветер в это время стал
значительно свежее. Но мы с удовлетворением убедились, что «Кон-Тики»
можно вполне уверенно управлять, идя даже под очень большим углом к
ветру, если только мы вовсе не теряли его. В этом случае парус начинал
полоскаться, и нам приходилось выполнять цирковые номера, чтобы
заставить плот снова слушаться руля. В течение двух дней и ночей мы вели
плот к север-северо-западу. Волны вздымались высоко, и когда пассат стал
неустойчивым и дул то с юго-востока, то с востока, они шли уже
непрерывными рядами; но мы продолжали плыть, подымаясь и опускаясь с
обрушивавшимися на нас валами. На верхушке мачты все время кто-нибудь
дежурил, и когда плот поднимался на гребень, горизонт перед нами
значительно расширялся. Гребни волн вздымались почти на два метра выше
крыши нашей бамбуковой каюты; а если две мощные волны обрушивались на
нас одновременно, то, сталкиваясь, они взлетали еще выше и превращались в
шипящий водяной смерч, который мог налететь на нас с любой стороны.
Когда наступила ночь, мы забаррикадировали вход в каюту ящиками с
продуктами; но океан то и дело нарушал наш покой. Не успели мы заснуть,
как раздался первый треск бамбуковой стены; тысяча струй воды фонтанами
полилась на нас сквозь бамбуковое плетение, а пенящийся поток обрушился
на ящики с продуктами, а затем внутрь каюты.
— Вызовите по телефону водопроводчика, — услышал я
чей-то сонный голос, когда мы скрючились, чтобы дать воде возможность
уйти сквозь пол. Водопроводчик не пришел, и этой ночью мы, лежа в
постели, приняли не одну ванну. Во время вахты Германа на плот ненароком
явилась большая золотая макрель.
На следующий день волнение несколько утихло, так как
пассат решил, что теперь он некоторое время будет дуть с востока. Мы
сменяли друг друга на верхушке мачты, ибо можно было ожидать, что к
вечеру мы достигнем того пункта, к которому направлялись. В этот день
море казалось нам более оживленным, чем всегда. Может быть, это
происходило только потому, что мы всматривались внимательней обычного.
После полудня мы увидели большую меч-рыбу, которая
приближалась к плоту, плывя у самой поверхности. Два остроконечных
плавника, торчавших из воды, отстояли друг от друга почти на два метра, а
меч казался таким же длинным, как и туловище. Меч-рыба описала кривую
рядом с рулевым и исчезла за гребнями волн. Когда мы сидели за обедом,
изрядно приправленным соленой водой, шипящая волна подняла к самым нашим
лицам большую морскую черепаху со щитом, головой и свисавшими ногами.
Когда эта волна уступила место двум другим, черепаха исчезла так же
внезапно, как и появилась. И на этот раз мы опять заметили, как, блестя
своим зеленовато-белым брюхом, золотые макрели метались в воде под
защищенным броней пресмыкающимся. Этот район океана был исключительно
богат крошечными летающими рыбами длиной в два-три сантиметра, которые
плыли рядом с нами большими стаями и часто попадали на плот. Мы видели
также одиноких чаек-поморников, нас постоянно навещали фрегаты, которые
летали взад и вперед над плотом, напоминая своим раздвоенным хвостом
гигантских ласточек. Появление фрегатов обычно считается признаком
близости земли, и оптимистическое настроение на плоту усиливалось.
«Может быть, здесь действительно имеется подводная
скала или песчаная отмель», — думали некоторые из нас. А самые большие
оптимисты говорили:
— А что, если мы обнаружим островок с зеленой
травой? Кто знает, ведь здесь до нас бывало так мало людей. Тогда мы
открыли бы новую землю — остров Кон-Тики!
Начиная с полудня, Эрик все чаще и чаще влезал на
кухонный ящик и, прищурившись, смотрел в секстант. В 6 часов 20 минут
пополудни он сообщил наше положение: 6° 42' южной широты и 99° 42'
западной долготы. Мы находились на расстоянии одной мили к востоку от
указанной на карте скалы. Мы опустили бамбуковую рею и скатали на палубе
парус. Ветер дул с востока и должен был медленно донести нас до места.
Когда солнце быстро опустилось в океан, на смену ему во всем своем
великолепии появилась полная луна и осветила поверхность океана, который
от горизонта до горизонта переливался чернью и серебром. Видимость с
верхушки мачты была хорошая. Повсюду шли длинные валы сталкивавшихся
между собой волн, но постоянных бурунов, которые указывали бы на
подводную скалу или отмель, не было. Никто из нас не заходил в каюту;
все стояли на палубе, пристально всматриваясь, а два-три человека
наблюдали с мачты. Когда мы медленно плыли в центре отмеченного на карте
района, мы все время делали промеры. К концу шелкового шнура длиной
свыше 800 метров, сплетенного из 54 нитей, мы привязали все свинцовые
грузила, какие только имелись у нас; если учесть даже, что из-за дрейфа
плота шнур опускался не совсем отвесно, все же груз висел на глубине по
меньшей мере 600 метров. А дна не было ни к востоку от указанного места,
ни в центре, ни к западу от него. Окинув последним взглядом поверхность
океана и окончательно убедившись, что имеем полное право считать этот
район обследованным и что здесь нет никаких отмелей, мы поставили парус и
повернули руль в нормальное положение, так, что ветер и волны снова
оказались сзади кормы слева. И наш плот снова двинулся вперед обычным
спокойным ходом. Как и прежде, волны накатывались на корму и уходили в
промежутки между бревнами. Теперь мы могли спать и есть, не принимая
душей, хотя океан вокруг нас разыгрался всерьез и бесновался несколько
дней, а пассат дул то с востока, то с юго-востока.
Во время этого маленького путешествия к
несуществующему рифу мы начали понимать, какую роль играют выдвижные
кили; а когда впоследствии Герман и Кнут, нырнув вдвоем под плот,
освободили пятый киль, мы узнали об этих забавных досках еще больше —
узнали то, чего никто не понимал с тех пор, как сами индейцы перестали
заниматься этим забытым спортом. То, что доска выполняла роль киля и
давала плоту возможность двигаться под углом к ветру, было нам понятно.
Но когда мы читали у древних испанских историков, что индейцы в какой-то
мере «управляют» своими бальсовыми плотами в океане с помощью «своего
рода выдвижных килей, которые они просовывают в щели между бревнами»,
это казалось совершенно непостижимым и нам и всем остальным, кто
занимался этим вопросом. Ведь выдвижной киль просто вгонялся в узкую
щель и был неподвижен; он не мог поворачиваться в сторону и служить
рулем.
Тайна была раскрыта при следующих обстоятельствах.
Дул ровный ветер, и океан снова успокоился, так что в течение нескольких
дней нам не приходилось прикасаться к привязанному рулевому веслу, для
того чтобы удерживать «Кон-Тики» в нужном направлении. Мы засунули
выловленный киль в щель на корме, и в то же мгновение «Кон-Тики» изменил
курс на несколько градусов с запада к северо-западу, а затем продолжал
спокойно и ровно двигаться по новому курсу. Когда мы снова вытащили
киль, плот повернул на прежний курс. Но если мы вытаскивали доску только
наполовину, то и плот поворачивал на старый курс только наполовину.
Простым подыманием и опусканием киля мы могли вызывать изменение курса и
держаться его, не притрагиваясь к рулевому веслу. В этом и заключалась
остроумная идея инков. Они разработали простую систему рычагов, в
которой вследствие давления ветра на парус мачта являлась неподвижной
точкой. Плечами рычага были части плота спереди от мачты и сзади от нее.
Если общая поверхность килей спереди была больше, нос плота легко
поворачивался к ветру, но если поверхность килей сзади была больше,
корма поворачивалась к ветру. Действие ближайших к мачте килей было
наиболее слабым — согласно закону о соотношении между длиной плеча и
силой. Когда ветер дул с кормы, выдвижные кили переставали действовать;
тогда, для того чтобы плот шел ровно, необходимо было все время работать
рулевым веслом. В этом случае плот шел прямо по ветру, к тому же он
оказывался немного длиннее, чем это нужно для того, чтобы легко
скользить по волнам. А так как дверь каюты и место наших трапез
находились с правой стороны, мы всегда стремились к тому, чтобы волны
набегали на плот сзади под углом слева.
Конечно, во время дальнейшего пути рулевой мог стоять
у киля, подымая и опуская его в щели, вместо того чтобы тянуть то в
одну, то в другую сторону веревки рулевого весла; однако мы теперь так
привыкли к веслу что предпочитали управлять им, установив с помощью
килей лишь общий курс.
Следующая знаменательная веха на нашем пути была такой же невидимой, как и отмель, которая существовала только на карте.
Это произошло на сорок пятый день нашего пребывания в
океане; мы прошли от 78° западной долготы до 108° и находились ровно на
полпути до ближайших островов впереди. Между нами и Южной Америкой на
востоке было свыше 2 тысяч миль, и такое же расстояние отделяло нас от
Полинезии на западе. Ближайшей сушей были острова Галапагос к
восток-северо-востоку и остров Пасхи к югу, но и до них свыше чем на 500
миль простирался беспредельный океан. Мы не видели и не могли увидеть
ни одного корабля, так как по этой части Тихого океана не проходили
обычные пароходные пути.
Но на самом деле мы не ощущали этих огромных
расстояний; горизонт незаметно двигался вместе с нами, и наш плавучий
мир оставался все время неизменным — ограниченный горизонтом круг,
вздымавшийся к небесному своду, плот в центре круга и все те же звезды,
из ночи в ночь медленно двигавшиеся над нами.